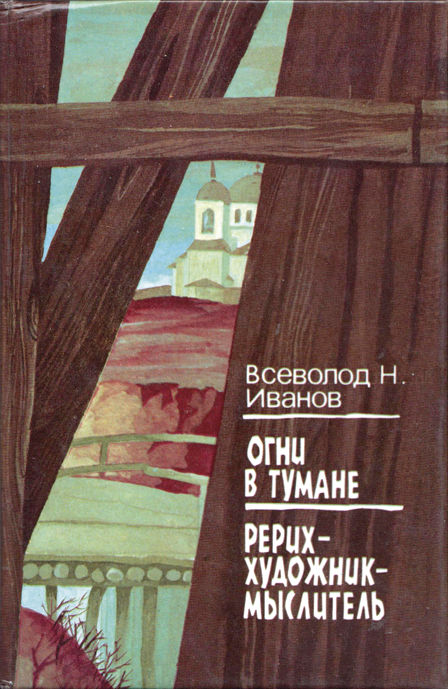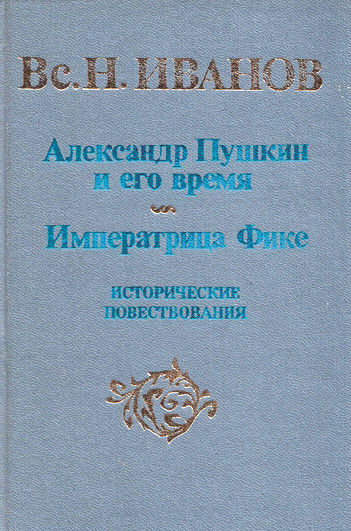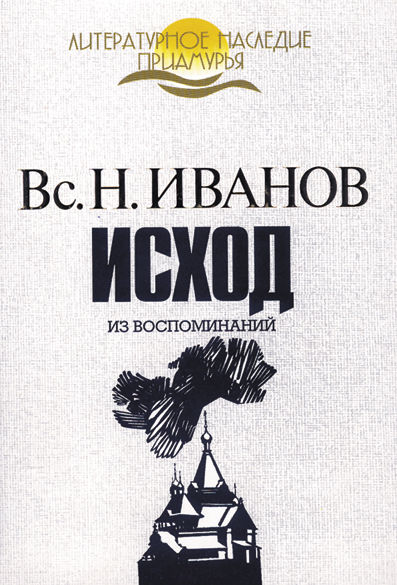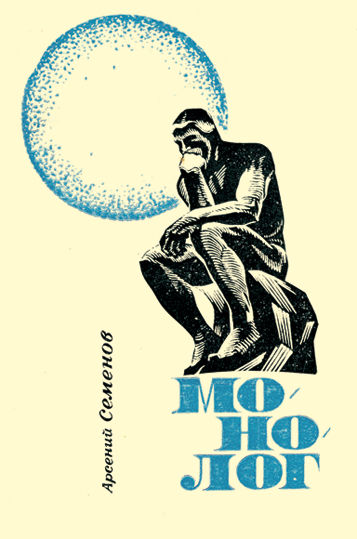Всеволод Никанорович Иванов и Арсений СеменовПамять сильнее динамита
Перевернул твердую обложку. На титуле повторяются инициалы автора, его фамилия. Далее набрано: «Александр Пушкин и его время. Императрица Фике. Исторические повествования. Хабаровское книжное издательство. 1985». В предисловии от издательства сказано: «Имя Всеволода Никаноровича Иванова, старейшего дальневосточного писателя (1888–1971), известно в нашей стране. Читатели знают его исторические повести и романы „На Нижней Дебре“, „Тайфун над Янцзы“, „Путь к Алмазной горе“, „Черные люди“, „Императрица Фике“, „Александр Пушкин и его время“. Впервые они были изданы в Хабаровске, где Вс. Н. Иванов жил и работал последние двадцать пять лет своей жизни...» Интересно, что слова на обертке написаны не моей рукой. Значит, книгу давал кому-то читать, и тот кто-то бережно завернул том в бумагу. В эту же книгу вложена другая, карманного формата, объемом всего около одного печатного листа. На обложке аляповатый цветной рисунок, название «Соседи», имя автора — Ю. Шишов. В книжице три небольших юмористических рассказа. Издана в Хабаровске в 1969 году. Здесь же автограф: «Валерию Черкесову от автора сего „микроромана“. „Лиха беда начало“. „Смех — дело серьезное“. С уважением, дружески! В лето 1970 г.». Как же эти книги могли сохраниться во время моих многочисленных переездов — из Благовещенска в Белгород, где я тоже сменил четыре места жительства, да и чистил свою библиотеку не раз?! Между тем эти два издания взаимосвязаны далекими событиями и, как я теперь понимаю, неслучайными знакомствами и встречами. Память, не подведи! ***
Тогда в Благовещенске гастролировал Хабаровский театр драмы. И вот однажды в мой кабинет вошел мужчина в модной клетчатой рубахе-распашонке. На вид ему было лет около сорока. Среднего роста, черные слегка вьющиеся волосы, острый взгляд. Сказал: — Я Юрий Шишов, актер хабаровского театра. Сочиняю юмор. Гость достал из кармана небольшую книжечку, ту самую — «Соседи». Спросил, как меня зовут, и подарил ее с автографом. В те времена любая книга, все равно толстая или тонкая, означала, что ее автор уже настоящий писатель. Юра (мы сразу же перешли на ты) принес несколько рассказов, отпечатанных на машинке. Я их прочитал, что-то отобрал для печати. Кстати, удалось уговорить редактора газеты выплатить хабаровскому гостю авансом гонорар, который мы в тот же вечер успешно оставили в ресторане «Амур». Гастроли театра закончились, Юра уехал. А осенью мне сообщили, что в Хабаровске состоится совещание-семинар молодых литераторов Дальнего Востока, и я, как уже отметившийся солидной стихотворной подборкой в альманахе «Приамурье мое» (выходит и сейчас в Благовещенске под названием «Приамурье»), кандидат на участие в нем. Совещание проходило в конце того же года или в начале следующего, точно не скажу, но помню, была зима. Незадолго до поездки я позвонил Шишову. Он встретил меня на железнодорожном вокзале, сказал: — Никаких гостиниц, остановишься у меня. Вечером во время застолья Юра рассказал, что написал «повестушку» (его выражение) для юношества о Гражданской войне — о тех самых легендарных «штурмовых ночах Спасска» и «Волочаевских днях», о которых говорится в известной песне, и что она будет обсуждаться на совещании. Потом он вздохнул: — А рецензентом будет сам Иванов. Чую, задаст он мне трепку, раздраконит рукопись. — Это который написал «Бронепоезд 14-69»?! — Нет. Другой. Тот Всеволод Вячеславович, а наш Никанорович. Он был офицером у Колчака, печатался в белогвардейских газетах, ушел на корабле из Владивостока в Китай. Жил в Харбине, много чего написал, даже о протопопе Аввакуме и русских царях. После войны вернулся в Союз. Ему в Москве и Ленинграде жить не разрешили, вот и выбрал Хабаровск. Я слушал Юру в буквальном смысле с открытым от удивления ртом, а он, вероятно, чтобы окончательно добить меня неожиданной необычайной информацией, добавил: «О нем еще Ленин говорил, что за советскую власть нужно агитировать так же талантливо, как против нее агитирует Иванов».
К нему подошел, чтобы поздороваться, руководитель Хабаровской писательской организации Виктор Александровский. Среднего роста, с почти брежневскими бровями, рядом с Ивановым он смотрелся удивительно маленьким. И вообще все, кто стоял вокруг Всеволода Никаноровича, были как бы ниже его. Иванов сел в первом ряду, чуть сбоку от нас, и я время от времени посматривал в его сторону, на строгий, чем-то напоминающий римский, профиль. Порою он оборачивался — взгляд излучал мудрость и достоинство. Как в семинаре прозы проходило обсуждение рукописи Шишова, я узнал от самого Юры. Всеволод Никанорович его особенно не «драконил», не критиковал рукопись. Он говорил о народной трагедии — Гражданской войне, о красных и белых, о том, что писатель не имеет права искажать историческую правду ни в чью угоду — властям, времени, обстоятельствам. Дальнейшую судьбу повести Шишова не знаю, но книгой я ее не видел. Впоследствии наши отношения с Юрой почему-то прекратились. Когда еще жил в Благовещенске, читал его юморески в журнале «Дальний Восток». А недавно нашел информацию в интернете, что актер Иркутского драматического театра Юрий Викторович Шишов ушел из жизни 20 июля 1999 года. Думаю, что это именно о нем. Между прочим, я попытался найти источник, откуда Шишов узнал о том, что говорил об Иванове Ленин. Но, увы. Скорее всего, Юра озвучил чье-то измышление, а возможно, сфантазировал сам. А может быть, и правда? Но об этом уже не узнать. ***Всеволод Никанорович Иванов умер 9 декабря 1971 года на 84-м году жизни. Получается, что я видел его в Хабаровске примерно за год до кончины. А его книга, о которой говорится выше, была отпечатана 75-тысячным тиражом в Благовещенской типографии, поэтому я смог ее приобрести, а так она быстро исчезла из магазинов нашего города. Читал не то что с интересом, а с удивлением и восхищением. До этого я мало что знал об императрице Екатерине II, да и об Александре Сергеевиче Пушкине не намного больше. Три повести — «Иван Третий», «Ночь царя Петра», «Императрица Фике», написанные ярким литературным языком, проглотил за несколько вечеров. А над повествованием «Александр Пушкин и его время» часто задумывался, стараясь запомнить факты жизни великого русского поэта, прикоснуться к его творчеству; отдельные цитаты из стихотворений, напечатанные в книге, я вообще узнал впервые. Далекая история стала ближе благодаря знаниям, эрудиции и, конечно же, поистине титаническому труду автора. Это сейчас, в век интернета, можно нажать пальцем клавишу и получить любую информацию, хоть о египетских фараонах, чем и пользуются некоторые современные романисты. А тогда, чтобы создать историческое произведение, надо было перерыть неимоверное количество архивных источников, которые, кстати, далеко не все и не всегда были доступны, перечитать немало книг, чтобы окунуться в давние времена и эпохи и приблизить их к нам, ко мне, как к читателю. В повествовании о Пушкине я впервые прочитал и навсегда запомнил эти строки В. Ф. Одоевского: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина!.. к этой мысли нельзя привыкнуть!»
Открыл ее и не мог отложить, пока не перевернул последнюю страницу. На экземпляре осталось множество подчеркиваний и пометок (признаю, нехорошая привычка). Что же меня тогда особенно задело? Конечно, те страницы, которые связаны с Дальним Востоком. Статья «Семеновщина»: «Нет Сейсмоса — Семенова. Молодого, предприимчивого атамана Семенова погубила глупая, хитрая, жестокая семеновщина». А в Благовещенске ходила легенда, что в старинном здании, где в мое время размещались гостиница «Амур» и одноименный ресторан, во время Гражданской войны находился штаб одной из частей атамана Семенова, отсюда они перебрались через границу в Китай. Статья «Адмирал Колчак»: «Для преодоления революции нужна была совесть, а совести-то и не было. Ни в красном, ни в белом стане. Совесть была только в одном адмирале Колчаке». За несколько лет до прочтения этих строк судьба занесла меня в Омск, и местный старожил, сопровождая по городу, показал кирпичный особняк, в котором, по его словам, недолгое время жил «правитель омский», рассказывал по-доброму об адмирале, хотя тогда такие речи могли быть небезопасными. В книге события, происходившие и в других городах — Иркутске, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Харбине. Они по дальневосточным меркам расположены близко, почти рядом, и мое воображение легко переносилось туда, словно я сам был причастен к тому, о чем писал Иванов. Честные размышления о судьбе России и нашего народа, беспощадная правда как о белых, так и о красных — они и сегодня звучат актуально. Запоминающиеся цитаты: «Мы живем в жестокий век для русского народа, и самое жестокое для нас, что единой, а значит, и великой России нет» («Жестокий век»). «Мало того, что мы порвали с традицией — мы не просто оставили ее в стороне. Мы возненавидели ее смертельной ненавистью, ненавистью к родному» («Кровь царя»). «Но какой еще народ пойдет искать по земле, чтобы найти где-то привлекательную сказочную мечту свою, найти ее в реальных формах? И, следовательно — какой народ может верить так свято собственным химерам?.. Никакая душа, кроме русской, вечно готовой к каким угодно крестовым походам ради слышимого ею благовеста вечности, а вместе с тем и ради неправд, которые творятся на Руси» («О русской душе»). «Революция пробудила волю в самом народе — вот что мы должны понимать... И, собственно, только внутренние темные, чудовищные убеждения, что это справедливо, заставили русский народ совершать все те жестокости, все те зверства, которые он совершил. Даже матросы, бросая своих офицеров в воду, были убеждены, что это „справедливо“. Внушил ли это кто им, были они в этом убеждены — это уже второстепенно» («Финал русской интеллигенции»). «В СССР теперь, говорят, 7 000 поэтов. Куда же там читать Державина... Удивительно, как это еще Пушкина не забросили! Да, там, наверное, забросили...» («Назад»). «Что же, Русь состоит из Ивановых... Да, это шевелятся Ивановы, сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы Ивановых... И поверьте мне, они теперь знают, что они хотят, эти Ивановы, и будет время — они прорвут вашу плотину» («Письмо в Москву»). Последний в книге «Огни в тумане» очерк «Мать Волга», в котором, выражаясь кратко, автор говорит о том, как дорога ему великая русская река и все, что связано с нею. А вот финальные строки: «И разве можно кому-то уступить все это? Все это наше? — Никогда! Память сильнее динамита.» Здесь память — всеобъемлющее понятие, но в первую очередь, конечно же, память о родине. Во время работы над этой статьей я поспрашивал местных коллег по нашему «безнадежному делу», кого из писателей Ивановых они знают, с чьим творчеством знакомы. Кто-то, как и когда-то я в гостях у Юрия Шишова, вспомнил автора «Бронепоезда 14-69»; кто-то Анатолия Иванова, наваявшего многотомную эпопею «Вечный зов»; кто-то Георгия Иванова, эмигрировавшего после революции в Париж и вернувшегося в Россию уже в наше время ностальгически пронзительными стихами; но большинство назвало поэта Геннадия Иванова, секретаря Союза писателей России, который не единожды приезжал на Белгородчину. Имя Всеволода Никаноровича им ни о чем не говорило. А мне думается, произведения этого классика, если не мировой, то уж русской литературы бесспорно должны знать не только все пишущие, но и все читающие граждане России. Высокая настроенность души
В 1966 году я, девятнадцатилетний, уже был вхож в Амурский комитет по телевидению и радиовещанию, меня привечали в редакции молодежных программ и даже иногда выдавали в эфир мои «невдалые вирши». Вот и в тот день (скорее всего, это было осенью) я робко открыл заветную дверь. Меня встретил заведующий редакцией — недавний выпускник Благовещенского пединститута поэт Станислав Демидов. Он сказал, представляя молодого мужчину в сером костюме: — Это Арсений Семенов. Поэт, редактор Хабаровского книжного издательства. Взгляд нового знакомого — прямой и внимательный, и в то же время в нем поблескивало мальчишеское лукавство. Но я больше смотрел на его руку, левую или правую, не помню, а вернее, на полупустой рукав пиджака. Демидов повел гостя в студию, его записали на радио, а потом мы переместились в гостиницу «Амур», где Семенов остановился. Конечно же, было немного выпивки и, естественно, читали стихи. Арсений прочитал «Реактивные истребители»: Над раздумьем моим за мгновение, Эта скорость — сплошное безумье И такое: Когда дела у нас нехороши Раскиснуть не давай себе. Глуши Услышанные строки мне показались какими-то старомодными, что ли, словно написанные в XIX веке, ведь в то время на слуху были эстрадные «шестидесятники», стихи которых поэт Александр Межиров однажды охарактеризовал как «организованные». А у Семенова — спокойное дыхание стиха, словно строчки всегда были в природе, и автор их только записал.
Меня возили долго по стране. (Л. Завальнюк. «Память») И годы те — как будто бы не в счет. Все в памяти. Хоть бейся головой, — (А. Семенов. «Дети оккупации») Право, строки созвучны. Второе, что роднило поэтов, это философское осмысление человеческого бытия. И поэты, которых признавали своими учителями, у них одни. Вот что писал, в частности, в предисловии к книге своих избранных стихотворений («Молодая гвардия», 1990) Л. Завальнюк: «Огромное влияние в разные годы на меня оказали ранний Мартынов, Заболоцкий». Семенов тоже не скрывал, по чьему творческому пути он старается следовать. Еще в 1960 году он написал стихотворение «Памяти Н. Заболоцкого», которое включал во все свои сборники. Эпиграф — строчки Заболоцкого: «Откройся, мысль, стань музыкою, слово / Ударь в сердца, чтоб мир существовал». А вот как заканчивает стихотворение Семенов: И посреди молчанья мирового, Смею предположить, что стихотворение Семенова «Первый снег» с подзаголовком «Монолог астронома» сочинилось под влиянием стихотворения Завальнюка «Астрономическое», у него подзаголовок «Монолог сатирика». Оба текста написаны с иронией и юмором.
Удивительно, но о его ранении я вспомнил уже в середине 1980-х годов, когда переехал в Белгород и познакомился с поэтом Владимиром Михалевым (кстати, он учился на Высших литературных курсах при Литературном институте вместе с хабаровчанином Михаилом Асламовым). Владимир Васильевич протянул мне руку, здороваясь, я увидел покореженные пальцы и шрамы на ладони. Спросил, что это. Вздохнув, поэт прочитал: Я не был в армии, ребята, — Он тоже был ребенком военного времени, пережил оккупацию в белгородском селе Терехово. Еще чаще я вспоминал Арсения, когда встречался с героями своей документальной повести «Минерам было по шестнадцать» (вышла в свет в 1995-м, переиздана с дополнениями в 2005-м). Она о несовершеннолетних участниках разминирования, которое велось на освобожденных от фашистов территориях. До девяностых годов эта страница войны была «под замком». В 1943-м и вплоть до 1950-х годов отряды по разминированию, состоящие из подростков, действовали во многих областях, в том числе и в Новгородской, где тогда жил Арсений. Мальчишки подрывались, гибли, получали ранения. Возможно, одним из таких юных героев был и будущий поэт. Второй раз я встретился с Арсением в феврале 1969 года. Тогда я решил «покорить» Хабаровск: там находилось книжное издательство, выходил журнал «Дальний Восток», а в Благовещенске в то время еще не было даже писательской организации. Отшлепав на пишущей машинке десятка три стихотворений, которые мне казались, конечно же, совершенными, я сел в поезд и на другой день оказался в кабинете Арсения — больше я в городе никого не знал. Он встретил меня, напоил крепким горячим чаем, стал читать мои стихи. Разложил листочки на три стопки. Одну, самую пухлую, вернул мне, вторую оставил себе, о третьей сказал: «Отнеси на радио Людмиле Миланич», что я и сделал. Не ведаю, прозвучали ли они в радиоэфире, а вот четыре моих стихотворения из оставленных Арсением были напечатаны в коллективном сборнике «Волшебное дерево» (1974) — моя первая публикация в хабаровских изданиях. В третий раз мы встретились через полтора года на совещании-семинаре молодых литераторов Дальнего Востока. К сожалению, я не попал на семинар, одним из руководителей которого был Семенов, хотя этого желал, но вечером в ресторане он подошел к столику, где пировала наша амурская делегация. Был весел, много и умно шутил, рассказывал случаи из своих странствий по Камчатке, об аборигенах этого сурового края. Весной 1976 года я приобрел сборник Арсения «Синь-синева». Зашел с ним к заведующему Амурским отделением Хабаровского книжного издательства Марку Либеровичу Гофману. Он-то и сообщил, что Арсений Васильевич умер в феврале. Поэт успел составить эту книгу, по сути, избранное, но вот увидеть ее и подержать в руках, увы, ему не пришлось... Еще несколько размышлений. «Синь-синева» открывается стихотворением «Над Сибирью ли пурги косые...». Вот его последние строки: Нас уводит большая дорога Все бы тление сжечь хотело, Написал стихотворение Арсений за год до своего ухода, так что эти строки можно считать его духовным прощанием.
О названии романа «Землепроходцы» («Молодая гвардия», 1976). Оно явно пришло к автору уже в процессе работы над текстом. Подтверждение тому стихотворение: От земель, где очи смежены В нас кровь землепроходцев не мертва. Эти строки датированы 1969 годом, написаны в Вологде. Значит, и вдали от Дальнего Востока Арсений думал и, вероятно, работал над своим романом о русских первопроходцах. В «Синь-синеве» под каждым стихотворением стоит дата и место написания: Старая Русса, Ленинград, Камчатка, Сахалин, Осиновая Речка... Но чаще всего встречается Хабаровск. Годы, проведенные в городе на Амуре, были, конечно, для Арсения самыми творчески плодотворными и, может быть, самыми счастливыми. Хабаровск он увековечил и в стихах: В Хабаровске заклеивают рамы. Да здравствует дыхание Борея! *** Что было, что грезилось полночью серой? Мне слышался голос, мне виделся парус. А читают, знают ли стихи Арсения Семенова сегодняшние хабаровчане? Очень хочется, и почему-то верится, что ответ на этот вопрос будет оптимистичным. Валерий ЧЕРКЕСОВ |
|||
|
|