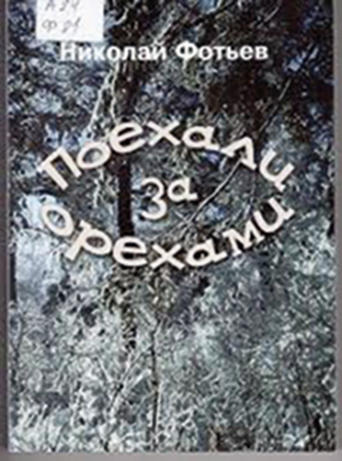Как говорится, время разбрасывать камни и время их собирать. Это я о том, что во мне давно подспудно зрели, как листья в весенней почке, воспоминания и добрые слова о Николае Ивановиче, который когда-то первым из писателей поддержал мои литературные начинания, с которым я встречался, общался, о котором часто вспоминаю. В областную молодежную газету «Амурский комсомолец» я пришел работать, когда мне было немногим более двадцати лет. Позади беспечное детство, бесшабашная юность, работа путейцем на железной дороге, вечерняя школа, первые сочиненные стишки — все больше о неразделенной любви и непонятной тоске, заметки в газетах, которые я стал подписывать фамилией своего отца — Черкесов, хотя его никогда не видел. Об уровне моей грамотности говорит такой анекдотичный факт: машинистка редакции, печатая мою заметку о спорте, подчеркнула написанную букву «ц» в слове «спортсмен». Я стал учетчиком отдела писем — полутворческая, полутехническая должность, с которой обычно стартовали в журналистику неучи-самородки вроде меня. Мой завотделом кроме газетных материалов писал стихи и прозу, и даже однажды участвовал в семинаре молодых литераторов Дальнего Востока в Хабаровске, и, естественно, в моих глазах был уже писателем. Но еще с большим трепетом, вожделением и обожанием я смотрел на Николая Фотьева, который часто заходил в редакцию, в наш отдел. К тому времени у него вышло несколько литературных сборников, жил он на вольных хлебах, то есть нигде официально не служил, хотя еще не был членом Союза писателей. Писательские хлеба были скудны, поэтому Николай Иванович приносил для публикации очерки и басни, а то и писал что-то по просьбе редакции — все какие-то деньги. Жил он со своей матушкой неподалеку от редакции на улице Зейской в доме из красного кирпича на несколько квартир, наверное, еще дореволюционной постройки. Завотделом и я иногда захаживали к нему, как к старшему товарищу по писательскому «безнадежному делу». Зная, что он работает, как правило, до обеда, в конце рабочего дня возьмем бутылку — и в гости. Николай Иванович обычно на стол накрывал сам. Еда была самой скромной: картошка жареная или вареная, иногда рыба — он был заядлым рыбаком. Мне почему-то особенно запомнился салат из бурых помидоров с добавлением лука, приправленный растительным маслом — это была мировая закуска. Больше одной поллитровки мы не приносили: главной в наших встречах была не выпивка, а разговоры о литературе, но больше о жизни. Писатель был старше меня на двадцать с лишним лет. Выходец из алтайской крепкой крестьянской семьи, подвергшейся репрессиям во время коллективизации, Николай подростком вместе с двумя братьями, сестрой и матерью пережил войну (отец погиб на фронте), сам проторил дорогу в жизни: окончил сельхозтехникум, а потом и сельхозинститут, работал в сельском хозяйстве, даже в Монголии, и не на последних должностях — он вызывал во мне всяческое уважение. Разница в возрасте и в биографиях и определяла наши отношения и общение. Николай Иванович говорил, я больше слушал, иногда читал свои стихи, в то время восторженные или почему-то, наоборот, упаднические. А старший товарищ поучал: нужно писать о жизни, о реальности, а не придумывать чувства, не стараться выражаться красиво. Эти уроки я запомнил на всю жизнь. Однажды областная газета «Амурская правда» напечатала два моих стихотворения «Песня» и «Переберем знакомых и друзей...» — это была моя первая публикация в столь престижном издании. В редакцию зашел Фотьев и говорит: «А знаешь, это уже настоящие стихи!» Позволю себе процитировать одно из тех стихотворений, чтобы читатели сами оценили строки, которые заслужили похвалу Николая Ивановича. Переберем знакомых и друзей, Я, конечно, сейчас с улыбкой отношусь к юношескому максималистскому вопросу «Что же будет в сорок?» Но Фотьеву, а ему тогда уже было за сорок, эти строки почему-то понравились. В 1969 году в Благовещенске после долгого перерыва вышел литературно-художественный альманах «Приамурье мое». В нем была напечатана и моя подборка с процитированным выше стихотворением. Я стал самым молодым автором альманаха, но, наверное, больше гордился тем, что напечатан вместе с Николаем Фотьевым, с первой частью его повести «Шиповник». Полностью она будет опубликована в его книге «Мужчины в доме» (1971). Прообраз главного героя этого произведения Пашки Тримасова — наш общий тогдашний приятель Анатолий Хритинин (это чувствуется и по созвучию фамилий) — человек непростой судьбы, резкий, честный, который писал едкие эпиграммы и эпитафии. Его небольшую подборку мне даже удалось как-то напечатать в «Амурском комсомольце». Толя был всего лет на пять старше меня, но уже успел побывать в местах не столь отдаленных, много читал, любил Достоевского и Есенина, был интересным собеседником, неотступным от своих жизненных принципов и правил. Эти свойства его характера и передал писатель в «Шиповнике». Пашка Тримасов похож на Егора Прокудина из «Калины красной» Василия Шукшина. Попав в колонию в общем-то по своей простоте и юношеской дури (могли бы и простить), он набирается житейской мудрости у классической литературы, подружившись с умудренным жизненным опытом библиотекарем-заключенным, сажает на территории кусты шиповника и любовно ухаживает за ними, а деревья называет ласково, как живых существ. К клену обращается «Клёнушка». (Помните, как Егор Прокудин общался с березками: «Невестушки, родные вы мои!») Таким Толя Хритинин был в жизни. Николай Иванович не боялся выносить на его суд то, что написал, ибо, как я понимаю, знал, что тот разбирается в литературе и глупостей не скажет. Помнится, однажды Фотьев прочитал нам сатирическое стихотворение из восьми или двенадцати строк. Было в нем и такое двустишие: У швейцара бычья выя. — Николай Иванович, да вот же готовая эпиграмма! — сказал Толя. — Больше ничего не надо. Фотьев, подумав, согласился. В таком виде эта миниатюра и печаталась в его книгах. Иногда Толя затаскивал Николая Ивановича и меня в ресторан «Амур»: «Хоть поедим по-человечески!» Мы, трое холостяков разного возраста, вели себя в ресторане, конечно же, по-разному. Фотьев предпочитал беседу выпивке, слушал, смотрел по сторонам, на посетителей ресторана. Как я понимаю, эпиграмма о швейцаре и некоторые басни, написанные им в то время, — результат наших походов в кабак, как называл Хритинин это предприятие общепита. А в уста героя «Шиповника» писатель вложил такие замечательные слова: «Если бы не любовь, ничего на земле не было бы хорошего». Естественно, слово «любовь» в данном контексте — всеобъемлющее понятие. Вообще-то Николай Иванович жил затворнически, не любил шумных и случайных компаний, излишней болтовни и особенно никчемных разговоров о, так сказать, высокой литературе. Его знали в Благовещенске многие представители творческих профессий, он их тоже, но держался писатель как бы на расстоянии, дружил только с теми, кто ему был интересен и, главное, надежен в отношениях. На всяческие литературные мероприятия ходил не с большой охотой, хотя его часто звали выступить то здесь, то там. Юмор и сатира Фотьева, его басни и эпиграммы, с которыми он вошел в литературу, как мне видится, давно требуют основательной исследовательской статьи. На сегодня самые значительные публикации на эту тему принадлежат преподавателю кафедры литературы Благовещенского педагогического университета Ирине Назаровой: она защитила кандидатскую диссертацию по творчеству Н. И. Фотьева. Книги этого жанра выходили у него в Хабаровске и Благовещенске, их любили читатели, но, насколько я знаю, в столичных издательствах не печатались. Причина? Наверное, московские журналы и издательства не хотели поколебать авторитет главного баснописца советской эпохи Сергея Михалкова публикацией по-настоящему талантливого дальневосточного автора. Я же до сих пор помню, какое впечатление произвела на меня басня «Пень». Ее сюжет: вместо того чтобы выкорчевать огромный пень на дороге, его обвешали всяческими, как бы сейчас сказали, предостерегающими водителей банерами. И пень возомнил, что он-де стал, чуть ли не великим, что всем необходим. Как это похоже на некоторых людей, чья значимость искусственно раздута! К сожалению, у меня не сохранилось ни одной книги басен и эпиграмм Фотьева, а вот в памяти нет-нет, да и всплывают его строки. К примеру, такие: Чтобы меньше было риску, Правда, сразу запоминаются. Не могу сказать, что Николай Иванович, как говорится, ввел меня в литературу, но вольно или невольно тому способствовал. Весной 1969 года я, двадцатидвухлетний, написавший к этому времени с десяток более-менее приличных стихотворений, рискнул поехать «покорять» Хабаровск, где тогда находилось книжное издательство, выходил журнал «Дальний Восток». Фотьев написал рекомендательное письмо прозаику Владимиру Клипелю, с которым я и заявился в его квартиру. Владимир Иванович встретил меня приветливо, накормил, приютил на несколько дней. Он же сказал, куда и к кому следует направить стопы. В книжном издательстве я познакомился с Арсением Семеновым (его сборники «Маятник», «Свет», «Синь-синева» я и сейчас порой перечитываю) и с Николаем Кабушкиным: в 1982 году он напишет положительную рецензию на рукопись моего сборника «Небо и поле», и эта книга выйдет в Благовещенске. В «Дальнем Востоке» меня встретил Михаил Асламов, впоследствии он напечатает несколько моих подборок в журнале. Потом я пошел на Хабаровское радио, где мои стихи прочитала Людмила Миланич и даже что-то отобрала для литературной передачи. Я не знаю, прошли ли они в эфире, но поэтесса была вторым рецензентом книжки «Небо и поле». А ведь все это началось с участия в моей литературной судьбе Николая Ивановича Фотьева! К сожалению, в последующие годы мы не очень-то часто встречались, не такими задушевными и откровенными были наши разговоры. Во-первых, наверное, со временем все-таки сказывалась значительная разница в возрасте: Фотьев мудрел, а я, так сказать, жил, как несло течением. Во-вторых, во всякой литературной среде есть свои подводные камни, которые порой разъединяют даже близких по духу людей. А то, что мы таковыми были, я понял много лет спустя, сам постарев и, как мне кажется, несколько поумнев. В апреле 1982 года за несколько дней до отъезда в Белгород я зашел в Амурскую писательскую организацию. Там был Николай Иванович. У нас произошел примерно такой разговор: — Вот уезжаю! — Зачем? — Хочу быть поближе к Москве. Думаю, будет больше возможности печататься, да и, чувствую, литературная среда нужна. — Я тоже давно подумываю о переезде в Хабаровск, но вот все никак не решусь, да и жизненные обстоятельства держат. Так я и не понял: одобрял ли Николай Иванович мой выбор, но, как показалось, какая-то грусть по поводу моего отъезда в его словах была. В моей библиотеке хранится первый сборник рассказов Н. Фотьева «Те далекие свидания». Вышел он в Хабаровском книжном издательстве в 1968 году. На титульном листе слова: «Валерию Черкесову — человеку, в которого я верю». Недавно перечитал книгу, и горечь ностальгии по теперь уже далеким временам наполнила мою душу. Написанное четыре с лишним десятка лет назад меня трогает, пожалуй, даже больше, чем тогда, когда я прочитал эти рассказы впервые. «Авария» — история о том, как шофер неосторожно притормозил, увидев, что ребятня топила щенка, и из-за этого попал в неприятную ситуацию; «Савка» — трогательный рассказ о мальчишке, живущем в глухом приисковом поселке, старшие братья которого уехали учиться в город, а он остался один с матерью, заканчивающийся пронзительно-щемяще; «Колё-ё! Лёнё-ё! Где вы?! Да возврас-чайтесь вы домой скореё-ё...!» (этой концовкой восхищался Толя Хритинин, часто ее цитировал)«; «Курносенький» — его герой, студент сельхозтехникума, пытливый, чудаковатый, с народным образным русским языком, схожий с героями произведений Василия Шукшина; «Последняя зима» — о трагической судьбе медведя, выписанной с таким знанием природы этого зверя, что при чтении жалость к нему наполняет сердце. А еще в рассказе «Высокий день» удивительно проникновенные строки о родном крае: «Течет Амур, плывут по нему солнечные блики, похожие на улыбки, светятся высокие сопки чистыми, звонкими красками, сияет бездонное небо, а на нем — солнце. Стоит тишина, сквозь которую доносятся сонные скрипы колес и монотонное тарахтение движка, а вдаль улетают две прекрасные белые птицы и уносят что-то очень дорогое человеческому сердцу». После выхода книги «Те далекие свидания» Николая Ивановича приняли в Союз писателей СССР — первым из литераторов Благовещенска. Я узнал об этом событии и тут же помчался к нему, чтобы поздравить. Николай Иванович подписал мне на память свое фото: «От новоиспеченного в день испечения. 18-XII-70 г. Н. Фотьев». В моих многочисленных скитаниях и переездах потерялись, остались где-то многие книги и фотографии, а вот эти две реликвии сохранились. Вероятно, так было угодно Всевышнему, чтобы во мне никогда не «пожелтела» благодарная память. В декабре 2007 года Николай Иванович отметил 80-летие. Тогда мне прислали очередной выпуск литературно-художественного альманаха «Амур», который издает Благовещенский государственный педагогический университет. В нем была опубликована и подборка лирических стихотворений Фотьева, строками одного из которых я и завершу эти воспоминания: Нет, я не загнан в угол ленью. Прошла эпоха впечатлений Валерий ЧЕРКЕСОВ |
|||
|
|